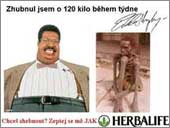Этот фильм о зловредной секте семейства саентологов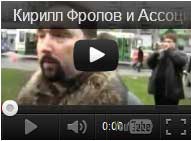
Популярные статьи
-
 Опубликовано 09.12.2011
Опубликовано 09.12.2011
-
 Опубликовано 04.07.2015
Опубликовано 04.07.2015
-

Предсказания преп. Кукши Одесского о восьмом соборе - сборище безбожных
Опубликовано 08.06.2014 -
 Опубликовано 23.08.2014
Опубликовано 23.08.2014
-

О коммунизме, шаманизме и бледнолицых неоязычниках или "миссия добра" в инфернальном исполнении
Опубликовано 08.07.2015
Популярные теги
церкви России Церковь секты православной Украины секта Святой
"Ассоциация Православных Экспертов"Кирилл Фролов. "Ассоциация православных экспертов"
Кирилл Фролов и его сектантское учение
Движение Виктора Милитарева отжига и ковки
Постпротестантские секты XVI -XVIII веков
Баптисты
Адвентисты 7-го дня
Пятидесятники и секты харизматического направления
Мормоны
"Новоапостольская церковь"
Богородичный Центр (Православная церковь Божьей Матери Державная).
Белое братство
"Церковь Последнего Завета" (секта Виссариона)
Аум Синрике (Алеф)
Церковь Объединения (движение Муна)
Бахаизм
"Международное Общество Сознания Кришны" (МОСК)
Шри Чайтанья Сарасват Матх
Иститут знания о тождественности
"Ананда Марга"
"Брахма Кумарис Международный Духовный Университет"
Шри Чинмой
Культ Сатья Саи Бабы
Фалунгун
"Сахаджа-йога"
Трансцендентальная медитация
Центр йоги "Крылья совершенства"
"Рэйки"
Культ Раджниша (Ошо)
Крия Йога, Центр "Ананда"
"Миссия Божественного Света"
"Карма Кагью" (Оле Нидал)
"Радха Соами Сатсангх"
ЗНО (Healthy- happy- Holy- Organization)
Тантрические секты и российские псевдотантристы
Тантра-Сангха
Школа Шамбалы (Сотиданандана йога-центр)
Семинары Андрея Лапина
Движение "Новый век"("Нью Эйдж")
Теософское общество
Агни-йога (Учение Живой Этики, Рерихианство)
"Академия Фронтальных проблем им. Золотова"
Секта Т.Ф.Акбашева
Секта В.М.Бронникова
Клуб "Этика поведения человека"(Клуб "Факел")
Международный центр космического сознания
Международный эзотерический центр "VITA"
Розенкрейцеры
Валеология
Школа Щетинина
"Страна Анура"
"Радастея"
Астрология
"Всемирное Белое Братство" Омраама Микаэля Айванхова
"Братство фиолетового пламени"
"Раэлиты"
Рушель Блаво
"Аят" Фархата ата
Церковь сатаны
Сатанизм
Церковь Сайентологии ("Дианетика")
Орден Друзей люцифера
Международная Ассоциация люцифериан "Кельтско-Восточного обряда"
"Зеленый орден"
"Черный ангел"
"Южный Крест"
Центр "Юнивер"
Последователи учения Карлоса Кастанеды
Международное Общество Друидов
Определение понятия "неоязычество". Сущностные характеристики неоязычества
Россия и новое язычество
Неоязыческие и антихристианские тенденции в современной общественно-политической жизни
Виды неоязыческих ритуалов.
"Белый лотос"
"Новый Акрополь"
Церковь "Нави"
"Троянова тропа"
Последователи Порфирия Иванова
Движение генерала Петрова "К богодержавию"
"Анастасия"
Общая характеристика коммерческих культов
Гербалайф
"Цептер"
Amway (Эмвэй)
Культ Чинг Хай
"Фалуньгун"
Карма Кагью
Игумен Евмений (Перистый) и его методики АЛЬФА-КУРС
Секта Якова Кротова
Учение и практика священника Анатолия Гармаева
Учение и практика священника Георгия Кочеткова
Учение и практика священника Александра Борисова
Секта отжига и ковки Виктора Милитарева
Каталог деструктивных сект, реестр сект, список сект, секты, тоталитарные секты, зловредные секты, секты обновленцев, секты стремящиеся к власти, секты обирающие граждан, секты - убйицы, секта, священник Георгий Кочетков, иеромонах Роман Кошелев, иерей Виталий Рыев, иерей Витлий Уткин, диакон Андрей Белоус, сатанисты, новые секты, Кирилл, Фролов, Виктор, Милитарев, Ассоциация поравославных экеспертов, иеромонах, Роман, Кошелев, православных, экспертов, секта Ассоциация православных экспертов, Корпорация православного лействия, секта Корпорация православного лействия, обновелнческие секты, секты, каталог, реестр, список, обновленческая секта, перечень сект, перечень, корпорация, православного, действия, религиозная секта, новая секта, описание сект, религиозная, группа, РАЦИРС, Иеговы, Кирилл Фролов, Виктор Милитарев, сайентологи, религии и секты, прессрелиз
Деструктивная деятельность иеромонаха Романа (Кошелева) осуждена Духовным Собором Оптиной Пустыни
Секта козельских сатанистов занимается вымогательством денег у православных
Виктор Милитарев и его секта отжига и ковки против Православия
Откровенные признания и размышления бывшего сектанта, магистра пресвитерианского богословия

Как становятся сектантами
Формула успеха всех без исключения сект, проповедующих Евангелие, — говорить о нынешнем, земном благополучии, уготованном Иисусом Христом, всем верующим в Него. Опоить сперва «хорошим вином» обещаний, «а когда напьются», потеряют ощущение вкуса, тогда можно вскармливать чем угодно. Человек не был первым творением, которое создал Господь. Бог поступает, как заботливые родители, которые до рождения ребеночка, еще только предвкушая его появление на свет, готовят ему все благоприятные условия для его беспечного пребывания: прикупают белье, игрушки, устраивают детский уголок, изучают умные книги о детском питании, то есть создают уют для будущего любимца. Когда условия были готовы (сотворение мира), Бог творит самое совершенное Свое чудо — человека. И хотя человек сам, по своей воле прерывает связь со своим Творцом, Бог не отпускает его ни с чем, то есть «нищим», оставляя ему «часть имения» (Лк. 15, 12) — все добродетели, способствующие правильной жизни и поиску своего Создателя. С самого начала душа человека, созданная христианкой, в конечном итоге, по замыслу Бога, должна вернуться к Нему: «а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Екк. 12, 7), соединившись со Христом. Это Божие предопределение для всех без исключения людей — спасение.
Но враг человека — диавол — коварными приемами подменяет Божье предопределение о Спасении своим — лживым, губительным, ненастоящим, раскрасив его радужными узорами, как когда-то в Раю диавол расписал в соблазнительных красках древо «познания добра и зла», чем привел человечество к падению. Человек пребывает в постоянном поиске, оправдывая слова известной поговорки: рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше; он хочет вернуть то райское, блаженное состояние, которое сам не испытал, но подсознательно понимает, что оно есть. Душа, как бегунок шкалы радиоприемника, носится по всем волнам, разыскивая нужную «станцию», которая, по словарю Даля, «место остановки путников (странников)». Таких «остановок» для человека бесчисленное множество; богатство, сила, знание, благополучная жизнь, красота, власть, любимая работа — вот неполный перечень этих «станций». Человек, найдя одну из таких «станций», по неопытности и неискушенности принимает эту «радиоволну» за истину, которую считает своим богом и которой, как ему кажется, и не хватало ему для полного счастья. Это, несомненно, катастрофа, которая далеко отодвигает тебя от Бога, но не неисправимая. Красота все равно увянет, сила пройдет, власть могут отобрать, богатство расточится, и есть шанс, что наступит прозрение — и ты вернешься к Истинному Богу. С душой намного сложнее, и духовные законы, невидимые глазами, продолжают жить независимо от того, принимаем мы их или нет. Мое состояние в то время, в начале девяностых годов прошлого столетия, когда многие состоявшиеся и, казалось, незыблемые устои рухнули с началом нового отношения к жизни, было похоже на такого рода бегунок радиоприемника. Запросы мои были, как мне думалось, не слишком высокими, как и у большинства тогдашних людей, — о достойной жизни.
И вот в таком состоянии поиска, который не давал моей душе покоя, меня «мягко» пригласили, без всякого давления, на собрание недавно открытой в нашем городе американскими миссионерами пресвитерианской церкви «Грейс» (Благодать). Моему восторгу не было предела. Как бывший музыкант, я высоко оценил мелодичность восхвалений Бога, которые сопровождали большую часть собрания. Внимательное, почти коленопреклоненное отношение ко мне, совсем незнакомому человеку, поразило меня. Много на этой встрече говорилось о любви к Богу и ближним, и что говорить, мне казалось: я чувствовал эту любовь. В тот день на собрании выступали семинаристы, прихожане, отправленные в Москву на учебу и приехавшие на каникулы в родную церковь. После собрания все перешли в буфет, где наше общение продолжилось с поеданием вкусных, даже деликатесных для того времени продуктов. Все было как в сказке, и я для себя там же решил, что обязательно поступлю в семинарию, чтобы восхвалять Бога подобно таким хорошим людям, которым Бог открыл Себя; для прославления чудных дел, которые Он творит любящим Его. Каждый день я спешил в офис церкви (никто меня этого делать не заставлял) с надеждой «сгодиться на что-нибудь». Я не пропустил ни одного воскресного собрания и тех собраний, которые проходили среди недели. Я был принят в группу «прославления» — так называются люди, участвующие в музыкальном воспевании Бога. Поступил учиться на вечерние трехмесячные курсы по изучению Библии, которые успешно закончил.
Теперь у меня оставалась одна дорога — в Московскую (протестантскую) семинарию. Мечта моя потихоньку сбывалась.
Молитвы мои, обращенные к Богу, большим разнообразием не отличались, в них я часто просил Бога послать мне большую сумму денег в любой форме: лотерейного билета, наследства или кошелька, найденного на дороге. После чего я как честный человек, давший слово в своей молитве Богу, обещал пожертвовать половину полученного церкви. Я совсем не знал Писаний, и мне мои молитвы не казались необычными, вокруг я видел множество подобных просьб, содержанием которых было материальное благополучие, успехи в работе, получение чего-либо, избавление от болезни или заслуженного наказания. Мне не приходило в голову, что я просто торгуюсь с Богом, как на базаре. Я верил в Бога, верил, что рано или поздно найду свое счастье в виде денежного клада: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7). Я настолько буквально доверял этим словам Писания, что совсем перестал пользоваться общественным транспортом. Я был уверен, что Бог ответит на мою горячую молитву, и внимательно смотрел себе под ноги и по сторонам в надежде найти долгожданный клад. В принципе, что мне еще можно было просить у Бога? Спасение я «получил», мои грехи, как нас учили, прошлые, настоящие и будущие, Христос взвалил на Себя, освободив меня от заботы даже думать о них. На здоровье в то время жалоб не имел. Что оставалось делать, кроме как радоваться и веселиться, просить у Бога только материальной поддержки, чтобы радость и веселье, которыми (как нас учили) я прославлял Творца, не иссякали. Хотя я был уже немолодым человеком, но ощущение внутреннего, иллюзионного счастья появилось во мне, как в молодом козлике.
Время проходило в нескончаемых семинарах, часто устраиваемых на природе, в горах, в дорогих пансионатах, которые в принципе своем не отличались от пикников, с поеданием шашлыков и пением под гитару о том, как любит нас Бог. Денег я так и не нашел, но долгожданный день собеседования по отбору достойных абитуриентов в семинарию настал. Все это время я жил с ощущением явного присутствия Бога, хотя жил в прелюбодейном сожительстве и не скрывал это. Но мне этот грех в упрек не ставили, меня же это устраивало, и, наверное, не только меня, раз я единогласно был принят в число семинаристов. Встретили нас в Москве, как министров, только почетного караула не хватало. Поместили на спортивной базе ЦСКА, которая была взята в полную аренду нашей пресвитерианской семинарией, со всем оборудованием, спортивными снарядами, сауной и бассейном. В советское время спортивная база ЦСКА была самой лучшей, после распада СССР — никому не нужной. К нашему приезду база была украшена так, как будто мы попали на бразильский карнавал. Прибытие наше было встречено танцами, подарками, шикарным обедом. Учеба была напряженной, с раннего утра до позднего вечера, иногда до полуночи, с постоянными лекциями по разным предметам, которые составляли доктрины протестантизма. Все было расписано по минутам. В бытовом отношении не было никаких проблем, мы были освобождены даже от уборки своих комнат, где жили по два-три человека, нашей задачей была лишь одна учеба. Что-то анализировать из пройденного, с чем-то сравнивать то, чему нас учили, просто не было ни времени, ни материала. Два часа личного времени в день на спорт, сауну, бассейн, один выходной в неделю, остальное время — учеба. Что ни говори, время было веселое, ощущение праздника не проходило. Иногда нам устраивали разгрузочные дни с поездкой в Москву, с катанием на теплоходе по Москве-реке и посещением (тогда еще в диковинку) закусочной «Макдоналдс». Или накрывали в семинарской столовой столы с целиком зажаренными, румяными поросятами. Особенным нашим расположением пользовались преподаватели по различным предметам, которые приезжали к нам из Америки каждую неделю. Мы наверняка знали, что все они каждому из нас приготовили по оригинальному подарку, и даже не по одному, которые, при нашей неустроенности в государстве, были просто никому из нас недоступны. А одних только студентов нас было больше сотни, со всего СНГ. Жизнь казалась сказкой. Студенты-баптисты из Белоруссии, испытавшие на себе гонение властей против религии, называли наше пребывание в семинарии раем. Мы смотрели в рот нашим преподавателям, которые приезжали учить нас не только Писанию, но и благополучной жизни. Старались не пропустить ничего сказанного ими, пытаясь как можно больше приобрести заморской мудрости. Пишу я эти записки без всякой предвзятости, и было бы нечестно и ответственно перед Богом, став православным, лукавить в чем-то, особенно в том, что тобою записано, от чего не отречешься. Не прямо, незаметно, ненавязчиво взращивалось пренебрежение к Православию как Церкви ветхой, пахнущей могилой, ни на что не годной. Мы регулярно молились о ее вразумлении и становлении на истинный путь.
«Вы знаете, — говорили некоторые педагоги, — почему мы так хорошо знаем Библию в сравнении с вами, а вы ее совсем не знаете?». Это было горькой правдой. «Потому, что наши туалеты в сравнении с вашими сделаны удобными и теплыми, и можно не боясь холода долго сидеть в них, изучая Писания, делая два дела сразу». Это не был «тонкий» американский юмор, как нам тогда казалось и который мы, студенты, воспринимали с восторгом. Это было типичное, как мне стало понятно намного позже, отношение к Слову Бога всего протестантского мира, озвученное преподавателями семинарии. Незадолго до выпуска была поездка в Санкт-Петербург на первый Пасторский семинар миссии «Грейс», который должен был стать традиционным. В принципе, это была тоже своего рода развлекательная поездка — с экскурсией по городу, проживанием в самой дорогой гостинице «Ленинград» и далее в пансионате на живописном берегу Финского залива, «с раздачей слонов». Наступил выпускной вечер, для нас очередной праздник. Мы были в новых, подаренных нам дорогих костюмах. Вечер был грандиозным — с поздравлениями и вручением дипломов, обильным угощением. Куча подарков, как дождевой поток, покрыла каждого выпускника, не оставляя «сухого» места. Даже новые, модные чемоданы были подарены нам для этих подарков от спонсоров не только из Америки — со всего мира. Миссия «Грейс» имеет свои филиалы по всему свету. И, как говорили сами руководители миссии «Грейс» в СНГ, тогда, в то время, все средства и все усилия всех этих филиалов были брошены для завоевания нашей территории — бывшего Советского Союза. Мы были счастливы и польщены таким необычным вниманием.
Первую часть евангельского стиха я «прошел», как этого добивались от меня заморские проповедники, достойно, попробовал «хорошего вина», и оно мне понравилось. По прошествии времени, осознав прошлое, я могу сказать, что главной темой нашей учебы было не изучение доктрин, отделяющих секты от Православия, а благополучие, которое в дальнейшем нам самим предстояло проповедовать. Для грамотного православного верующего ничего не стоит разгромить любое сектантское мудрствование православными догматами. А вот благополучие — это такой крючок, с которого трудно сорваться и на который ловится рыбка большая и малая — от духовенства до прихожанина. Для меня, как и для других, семинария была мышеловкой, и она сработала. На сыр, который был наживкой, клюнуло много моих сокурсников. Я тогда еще не понимал своим мышиным умом, что за него все равно придется расплачиваться, бесплатного сыра не бывает даже в мышеловке. Что все это благополучие, которым я был окружен, дано в долг за самое дорогое — душу, которая продана мной так бездумно дешево. Моя сектантская жизнь только начиналась.
Вино начинает кислить
Алкоголик, прежде чем им стать, начинает с хороших по качеству алкогольных напитков, «в меру». Когда такое употребление становится частым и входит в привычку, чувство вкуса притупляется, и это уже становится пьянством. Тогда человеку все равно, что пить, лишь бы снять похмельный синдром. В духовном плане похоже, но намного сложнее и опасней, хотя не так заметно. Как в реальной пьяной жизни, так и в духовной «правят бал» бесы, только в духовной жизни это намного умнее и тоньше. Нет таких богословских терминов, как «духовное пьянство», «духовное похмелье» и «духовный алкоголизм», но все они реально существуют. «Духовное вино», которым был напоен «сперва», в последующем времени открывается своей некачественной стороной, но тебе уже все равно, что пить, потому что наступила жажда, так называемое «духовное похмелье». Это не та вода, которую Христос предлагает Самарянке, говоря: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» (Ин. 4, 14).
Жажда общения, как в клубе по интересам, привычка и материальная сторона вопроса — вот неполный перечень цепей, которые удерживают тебя, заставляя не покидать секту. И еще, оглядываясь вокруг, в поисках правды, видя в мире «пир во время чумы», ты бежишь «опохмеляться» туда, где в сравнении с ним «мир и благодать». «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство», — предостерегает апостол Павел (Еф. 5, 18), прежде всего имея в виду духовное прелюбодеяние, которое в плане лечения намного серьезней физического. Ветхий Завет с древнего времени остерегал еврейский народ от такого «распутства», то есть ересей, и пророчески нас, живущих в Новом Завете, — от сект, называющих себя церквами. Никто из богословов разных конфессий не возражает, что Церковь в Писаниях образно названа невестою и женою. «Утешайся женою юности твоей, — наставляет Соломон в Книге Притчей. — И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?» (Притч. 5, 18, 20). Царь, имевший 700 жен и 300 наложниц, учит верности единой жене, учит свой народ нравственности, будучи сам не таким... Не странно ли это? Царь, за распутную жизнь которого Бог наказал весь израильский народ тем, что разделил его на два царства, выступает за чистоту супружеских отношений? Только ли целомудрие лежит в основе притч? Но притча останется простым нравственным поучением, даже «анекдотом» (есть такое современное научно-богословское мнение), если не будет нести в себе духовных законов.
Притча — это земная история с Небесным смыслом. И в ней прежде всего нужно искать духовную сторону интересующего вопроса: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Здесь пророчески Новозаветная Церковь названа «женою юности твоей». Проходят годы, столетия, люди стареют, умирают, сменяется поколение за поколением, а Церковь, как и Христос, Который «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8), не меняется, оставаясь единственной и верной «Женою юности твоей». Венчание по новозаветным законам бывает единожды, развод и новый брак назван Богом прелюбодеянием. Только одна причина, названная Христом, допустима к расторжению брака, — измена одной из сторон. Немыслимо даже подумать, что это может произойти со стороны Церкви. Человек же такой неверности подвластен, и этот стих предостерегает его от «духовного прелюбодеяния». Как дряхлый старик в страстном своем безумии верит «бескорыстным» ласкам молодой женщины, так и любой человек не застрахован от увлечения разного рода учениями, будоражащими кровь. Уже став православным, разговаривал с бывшей однокашницей по духовному, протестантскому учебному заведению. На мой вопрос: «Почему нельзя быть честным и не сознаться в своем сектантстве, раз ты это понимаешь?» — она с печалью ответила: «А что делать? Где сыскать хлеб насущный?».
Вернувшись в родную «церковь», получив должность проповедника, стал служить, в почете и достатке, не обремененный другими заботами. Все вроде бы шло по «букве», написанной в Писании: проповеди о любви к Богу и ближнему, непрекращающиеся молитвы о мире во всем мире и прочее. Но все это со временем стало казаться ненастоящим, игрушечным. На каждом богослужении, обнимая друг друга со словами: «я вас люблю», я чувствовал себя последним вруном, потому что, произнося эти слова, я не чувствовал не только любви, а даже симпатии, а иногда имел скрытую вражду к тому, кого обнимал. Хотя в самом начале моего сектантского «путешествия» этот своего рода обычай мной воспринимался за настоящую любовь. «Любите врагов ваших» (Мф. 5, 44) — учат протестантские наставники, цитируя Писание, а что такое любовь, никто в секте толком объяснить, не может. Не все, что написано в Писании, по силам исполнить читающим его. Без личного опыта, с опытом учителей, которые сами недавно стали христианами, с опытом новоявленных «церквей», отвергающих любой опыт, далеко не уедешь.
Можно без остановки говорить, наизусть пересказывая Писание, про любовь к Богу; ближнему; ко всему миру; но не имея при этом опыта самой любви, это будет то же, что толочь в ступе воду: «Царство Божие не в слове, а в силе», — говорит апостол Павел (1 Кор. 4, 20). Не имея такой «силы», которая всегда приобретается опытом (как у спортсменов, подобно тренировкам, начинается с маленькой нагрузки, чтобы не надорваться, и постепенно, со временем, увеличивается, достигая совершенства), все заверения — хоть о любви, хоть о небесном царстве — являются пустой болтовней. Чтобы иметь какое-то представление о любви, о которой не умолкая должен проповедовать каждый протестант, мне пришлось, заставить себя обратиться к трудам Святых православных отцев. Потому что наши новоявленные «кормчие» такого, настоящего представления о любви не имели; только слова, песни, танцы, «обнимансы» и никакого опыта. Почему «заставить»? Потому что пренебрежительное отношение к «ветхой» Церкви принесло свои плоды: хотя открытая вражда к Православию в семинарии не преподавалась, наоборот, молились о вразумлении и возвращении «заблудшей овцы», то есть православных, в лоно истинной «церкви», семинария все же добилась своего — приучила к «духовному суррогату» и взрастила недоверие к Церкви настоящей. Мне, как лидеру «церкви», будущему пастору, необходимо было знать предмет, о котором говоришь, который составляет «фундамент» нашего протестантского церковного учения — любовь. Любовь — это особая, любимая тема сектантских наставников, кем являлся и я. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8, 16) — часто говорим мы вслед за Иоанном Богословом, употребляя это слово, любовь, в греческом переводе — «Агапе», что значит Божественная любовь.
И вот что я узнал, как о любви думают Святые отцы.
«Не подумай, возлюбленный брат, — говорит святитель Игнатий Брянчанинов, — чтобы заповедь любви к ближнему была так близка к нашему падшему сердцу: заповедь — духовна, а нашим сердцем овладели плоть и кровь; заповедь новая, а сердце наше — ветхое». Это Святитель сказал о древней, еще ветхозаветной заповеди любви к ближнему, что она не придет к тебе от одного желания, прежде нужно «починить» свое испорченное грехами сердце, как часы, показывающие неправильное время. Что же делать, если даже Моисеева заповедь пока не по силам, а Христос говорит уже о другой, более сильной: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас» (Ин. 13, 34). Нужно трезво, без какой-либо мечтательности понять, что любовь — это прежде всего труд, а не удовольствие. Достичь любви, о которой говорит Господь, — это взойти на духовный Эверест, что неподготовленному чревато смертью.
«Тот, кто по естеству способен с горячностью любить ближнего, должен делать себе необыкновенное принуждение, чтоб любить его так, как повелевает любить Евангелие», — пишет святитель Игнатий. Но вот, говорил я себе, я и делаю над собой усилие, обнимая незнакомых мне людей и словом признаваясь в любви к ним. Много времени понадобилось мне для того, чтобы понять сказанное Святителем. «Принуждение себе» — это когда не хочешь, но делаешь, пусть делаешь через силу, но честно. Если я не люблю, то я не буду признаваться в том, чего у меня нет. Обнимать незнакомцев и говорить им слова любви, попросту врать, сложности не представляет никакой (может быть, вначале стыдно), что очень похоже на признание в любви ловеласа очередной своей жертве. Не зная о любви ничего, проповедовать то, что не знаешь, — это, мягко говоря, водить за нос. Иоанн Лествичник в своей «Лествице» пишет: «Пламенеющая, естественная любовь легко обращается в отвращение, в непримиримую ненависть». Вспомним ветхозаветную библейскую историю, где Амнон, сын Давида, бесчестит Фамарь, сестру Авессалома: «Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистию, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: встань, уйди» (2 Цар. 13, 15). «Естественная любовь выражалась и кинжалом», — продолжает Лествичник.
Мы часто, почти всегда, путаем естественную любовь с Божественной — Агапе, а быть в этой любви — значит иметь в себе Бога. Протестанты, как и я в свое время, по дерзости своей так и считают, что Дух Святой живет в них, ссылаясь на стихи Писания, по-своему толкуя его, которое говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас»? (1 Кор. 3, 16). По слову святителя Игнатия, человек, созданный храмом, по грехам превращается в гроб, в котором Бог уже не живет, а как бы спит, пребывая в коме: «Гроб наше сердце. Было сердце храмом; сделалось оно гробом. В него входит Христос посредством крещения, чтобы обитать в нас и действовать из нас. Тогда сердце освящается в храм Богу. Оживляя ветхого человека, мы отнимаем у Христа возможность к действию».
Христос Своим рождением говорит нам об этом. Когда Ему пришло время родиться, то место для Царя царей было даже не подготовлено. Что это? Просчет Бога Отца, забывчивость в текучке повседневных дел? Ошибок ни в малом, ни в большом у Бога не бывает. И такой вопрос — где должно родиться Христу? — не может быть решен обстоятельствами, как на первый взгляд мы видим в Евангелии, то есть отсутствием свободных мест в гостинице. Это внешняя, видимая сторона вопроса, но никак не главная. Можно ли вообразить себе, что для Бога это могло явиться проблемой. Иисус Христос должен был родиться в хлеву, и только там, и нигде больше, окруженный скотиной и грязью, по плану Самого Бога. По древнему преданию, во время рождения Спасителя около яслей стояли вол и осел, как говорит пророк Исаия: «вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1, 3). В Библейской энциклопедии репринтного издания Свято-Троице-Сергиевой лавры читаем: «Ясли — это слово буквально означает стойло для скота, как то: коров, лошадей и т.п., с корытом для их корма». Человек по своим грехам является подобием таких «яслей», «вертепом», достойным обитания животных, а не Бога. Господь же при нашем Крещении, как в Свое Рождество, рождается в нас, в тех, кто заслуживает обратного, не по причине «недостатка места», а по величайшей любви к людям — Агапе. Готовясь к своему личному причастию, православные вычитывают сугубые молитвы, где говорят: «И якоже восприял еси в вертепе и яслех безсловесных возлещи: сице восприми и в яслех безсловесныя моея души, и в оскверненное мое тело внити». То есть: «как Ты, Господи, не погнушался яслями и вертепом, родившись в них, не погнушайся и моим оскверненным грехами телом, которое такие же вертеп и ясли для скота, недостойные Тебя».
В хлеву Господь только рождается, но жить в нем Он не будет, как сказал святитель Игнатий Брянчанинов: «Христос, введенный крещением, продолжает пребывать в нас, но как бы умерщвленный нашим (ветхим) поведением. Нерукотворный храм Божий превращается в тесный и темный гроб» (Аскетическая проповедь). Чтобы Иисус начал жить в человеке, необходимо заняться «уборкой помещения», дом для животных (хлев) перестроить в дом для Бога. И эту чистоту поддерживать на протяжении всей жизни. Видимым примером такого чудесного превращения служит Вифлеемский храм Рождества Христова, который из яслей переродился в великолепную церковь. Каждый человек по сути своей «вертеп» и разбойник, достойный смерти. Иисус Христос рождается на растленной земле, в грязном хлеву и в падшем человеке, и все это в целом названо «вертепом». Рождество Христа — это проповедь, сказанная Господом людям о том, кто они есть на самом деле. В этом заключается безграничная Любовь и безграничное Величие Господа, что Он рождается не в белокаменных палатах кесаря (что для Бога не представило бы труда), которые никак не могут быть образом погрязшего в грехах человека, а в яслях, окруженный нечистотами и скотиной, которые и есть буквальное подобие существующего мира и человека.
Христос рождается в этом мире (понимай — в нас), освящая «вертеп», превращая его из ночи в день, рождается не в праведниках, которых нет, а в грешниках, ради которых Сам одевается в «кожаные одежды» нашего греха, то есть в плоть. Это не значит, что в праздник Рождества мы не должны строить и украшать Рождественский вертеп как символ нашего освящения младенцем Христом. Наоборот, «вертеп» этот должен быть убран краше любого дворца. Ведь все мы в крещении и своем причащении (даже видимым образом), пусть ненадолго, становимся светлее. «Вертеп» — это «мостик», «тамбур» между вагонами, соединяющий Ветхий и Новый Заветы. И как мостик или тамбур, не может быть местом для жилья. Это переход из одного «вагона» в другой, место рождения из старого в новое, но никак не дом для жительства. Такого дома для человека, как странника на земле, нет. Человек сам становится местом жительства: или домом для Бога, или домом для «скотины», то есть для грехов, «вертепом разбойников, бесов и разврата». Сам же процесс преобразования не может быть моментальным, как об этом проповедуют сектанты, это труд, и немалый: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12).
Вернемся к теме о любви. Все сектанты, и я в том числе, просят у Господа даров Святого Духа, так называемой «харизмы», чтобы потом принести плод, угодный Богу. Но духовные законы говорят об обратном: сначала, как сказал Иоанн Креститель, «Сотворите же плод достойный покаяния» и лишь потом, по усмотрению Бога, можешь рассчитывать на «дары», что, по мнению православных, тоже своего рода дерзость. Апостол Павел (Гал. 5, 22–23) пишет о дарах: «А плод же духа: Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Эти дары Святого Духа Павел расположил в порядке нисхождения, сверху вниз, как бы построил горку, на вершине которой самый драгоценный дар — Любовь (Бог). Для достижения вершины нужно подняться по «ступенькам-плодам» вверх, первая из которых —воздержание, чтобы это было понятней, надо прочесть стихи в обратном порядке, порядке восхождения: «А плод же духа: воздержание, кротость, вера, милосердие, благость, долготерпение, мир, радость, Любовь».
Много ли христиан всех конфессий, включая православных, честно могут сказать, что уже стоят на этой первой ступеньке — воздержание? А за воздержанием — кротость (еще более трудная ступенька), потом вера, которая, как сказано в Евангелии, должна передвигать горы, потом милосердие, благость, долготерпение, и тогда только наступает радость и, наконец, долгожданная Любовь. Это нелегкое, единицам посильное восхождение на своего рода духовный Эверест. Пребывать на первой «ступеньке», которая «воздержание», — уже подвиг. «Веселиться» (не понимай как «радоваться», предпоследняя ступенька) и обнимать друг друга, рассуждая про любовь со счастливой американской улыбкой на устах, — пустое, как и «вера, которая без дел мертва». Часто и красиво говорить о любви не значит еще любить по-настоящему. Есть такое распространенное в быту мнение, что женщина любит ушами. Прихожане протестантских церквей превратились в такую женщину. Уши наши хотят слушать про любовь и благополучие и не переносят правды Святого Писания. Апостол в своем послании к Тимофею (2 Тим. 4, 3) говорит про это: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху».
Мы любим, когда нас любят, наша же любовь, которая в нас, — иллюзия, естественная, которая, как было уже сказано, и «кинжалом выражалась».
Святой Антоний Великий говорит: «Прежде чем дойдем до излияния крови, не будем хвалиться своей любовью» (Добротолюбие 1:78), к этому выражению Святителя можно подставить любую добродетель, которая в устах сектантов действует как приманка. «Много было подвижников в Западной церкви, которые написали множество книг из своего разгоряченного состояния, в котором исступленное самообольщение представлялось им божественной любовью (Агапе), в котором расстроенное воображение рисовало для них множество видений, льстивших их самолюбию и гордости», — говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Не только религиозные проповедники становились наставниками и учителями простого народа, увлекая его своими воображениями в миры мечтаний и фантазий. Множество писателей и драматургов управляли умами людей «просвещенного» тогда и сейчас века, писали и пишут о любви, которой мы восхищаемся и подражаем. Нагляднейшим примером может послужить любовь между Ромео и Джульеттой в одноименной драме Шекспира. Итогам этой любви рукоплещет весь мир как самым достойным доказательствам высшей ее степени.
Но Бог учит нас распознавать истину не по эмоциям расстроенного нашего воображения, а по выращенным плодам. Какой же плод принесла любовь двух юных сердец, которая служит для нас эталоном? Два самоубийства, которые для неверующего мира хоть и являются красивым концом, разогревающим кровь и достойным подражания, принесли для этих сердец вечное мучение. А сколько душ это изучаемое как шедевр литературы произведение погубило, отправляя прямиком в ад! Под чью диктовку написано это и множество других такого рода произведений? Под чью диктовку проповедуется любовь, которая далека от нее? Глупо самому, без помощи Бога тягаться с тем, кто был «печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты» (Иез. 28, 12), то есть с диаволом. Любовь, как бы она красиво ни была описана или проповедана, не может быть любовью от Бога, если не несет в себе труд и жертву, угодную Богу. Но так как диавол в своих произведениях часто использует другого рода жертву, как у Шекспира, нужно быть внимательным, что выбирать для чтения. Все написанное под водительством «отца лжи», все сказанное с кафедры в сектах, как бы это ни казалось тебе правильным, несет в себе смерть, украшенную такими понятиями, как честь, справедливость, долг, терпимость, миролюбие и прочие. Автор таких писаний и проповедей «человекоубийца от начала» (Ин. 8, 44).
«Твердо знай, — говорит святитель Игнатий, — что любовь Агапе есть высший дар Святого Духа, а человек только может приготовить себя чистотою и смирением к принятию этого дара», о чем выше было сказано: «сначала плод, а потом дар».
По учебнику И.В. Чекалова «Нравственное богословие Евангельских христиан-баптистов», в греческом языке существует пять слов — своеобразных форм, выражающих любовь:
— эрос — чувственная, плотская, эгоистическая любовь, в Новом Завете не встречается;
— епитимия — можно перевести как «сильное желание прийти на помощь» (Отк. 3, 20);
— сторге — естественная любовь между супругами, любовь родителей к детям, детей к родителям;
— филия — сердечная, естественная любовь, которую мы питаем к друзьям и близким нам людям;
— Агапе — любовь ко всем, даже врагам. Такую Любовь, по нашим немощам, можно назвать сверхъестественной, недосягаемой. В наше время она практически не встречается».
Не будем возражать баптистскому учителю, тем более что одна из этих форм присутствует в православной практике — епитимия — и растолковывается с церковно-славянского языка как «врачевание наказанием». Греческий, перевод этого слова — «сильное желание прийти на помощь», евангельский — «Господь, кого любит, того наказывает» (Евр. 12, 6). Все три толкования по смыслу не противоречат друг другу. И выходит, для нас, простых смертных (не святых), любовь, переведенная словом «епитимия», является наиболее полезной для нашего спасения, о чем свидетельствует то, что православным она более знакома, чем любовь «Агапе». Как бы красиво ни рассуждали сектанты по поводу Божественной любви, узнать о ней они могут после чтения Святых православных отцев, испытать же Ее на себе — только после многолетнего труда и «брани против духов злобы поднебесной» (Еф. 5, 12). Да и как можно говорить о Любви, как и о Боге, Которого не знаешь? В Полном церковно-славянском толковом словаре протоиерея Г.Дьяченко ни слова «Любовь», ни слова «Бог» нет. Если апостол Павел не смог объяснить человеческими словами, что такое Рай, который он видел своими очами, то что можно сказать о Любви? Только то, что это Бог, и обратное: что Бог — это Любовь (Ин. 4, 8). «Кто хочет говорить о любви Божией, тот покушается говорить о Самом Боге; простирать же слово о Боге погрешительно и опасно для невнимательных», «Любовь есть Бог (Ин. 4, 8); а кто хочет определить словом, что есть Бог, тот, слепотствуя умом, покушается измерить песок в бездне морской» (Лествица, Слово 30:4; 6).
«Божественная любовь — не что-нибудь, собственно принадлежащие падшему человеку: она дар Святого Духа, посылаемый одним Богом в сосуды, очищенные покаянием, в сосуды смирения и целомудрия», — говорит святитель Игнатий. Такое понимание Слова приходило не сразу, с трудом, в постоянных поисках у святых отцев ответов на вопросы, которых становилось не меньше (по логике — чем больше узнаешь, тем меньше непонятного), а больше. Других, кроме семинарии, учебных заведений в миссии «Благодать» не было, а желание учиться, познать истину не уходило. Пойти со своей проблемой в Православную Церковь в тот период у меня не было даже проблеска мысли. Протестантских богословских учебных заведений в городе на то время было уже много. И, отпросившись из «Благодати», я поступил в Духовную пресвитерианскую академию при «Первой Пресвитерианской Церкви», но это уже новая страница моей протестантской жизни.
«Как вы яхту назовете, так она и поплывет»
В 1994 году (я уже был студентом академии) в религиозном мире нашего города произошло, как мне казалось, знаменательное событие. Все большие так называемые «пресвитерианские церкви» американского и корейского происхождения, которых насчитывалось с десяток, решили создать коалицию. Главы этих «церквей» договорились собираться один раз в полмесяца для решения вопросов, которые, безусловно, возникнут в ходе их миссионерской деятельности, наподобие детей лейтенанта Шмидта. Одним из первых принятых решений было грядущее празднование Пасхи, провести которое постановили все